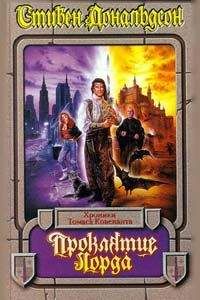Так они и поднимались по склону — Этьеран, взбегающая вверх с высоко поднятой головой и развевающимися волосами, словно она видела перед собою звездные врата неба, и Кавинант — спотыкающийся, с трудом карабкающийся следом за ней. Позади них садилось солнце, как бы делая глубокий выдох облегчения после долго сдерживаемого вдоха. А склон впереди, казалось, простирался прямо в небо.
Кавинант был ошарашен, когда Этьеран, добравшись до гребня горы, внезапно остановилась, схватила его за плечи и закружила, крича с ликованием:
— Мы здесь! Мы успели вовремя!
Кавинант потерял равновесие и упал на землю. Мгновение он лежал, тяжело дыша, собирая остатки сил для того, чтобы с удивлением взирать на Этьеран. Но она не замечала этого. Ее глаза были устремлены вниз, вдоль восточного склона горы, и голосом, срывающимся от усталости, ликования и благоговения, она повторяла:
— Банас ниморам! Ах, радость сердца! Радость сердца Анделейна! Все же я дожила до этого момента!
Загипнотизированный чарами ее голоса, Кавинант медленно поднялся и устремил свой взор туда же, словно надеялся постичь воплощенную душу Анделейна.
И не смог удержаться от стона в первом приступе разочарования. Он не смог увидеть ничего, что объясняло бы восторг Этьеран, ничего, что было бы драгоценнее и чудеснее, чем многочисленные проявления Анделейна, мимо которых они промчались с такой небрежностью. Там, внизу, куда он смотрел, трава переходила в гладкую широкую чашу, похожую на пиршественный кубок ночного неба. Солнце уже село, и в сумерках очертания чаши расплывались, но света звезд было достаточно, чтобы видеть, что кругом не было ни деревьев, ни кустов — ничего, что могло бы возмутить идеально гладкую поверхность чаши. Она казалась такой безукоризненной, словно поверхность земли посыпали песком и отполировали. В эту ночь звезды казались особенно веселыми, словно затмение луны принудило их светить ярче, чем прежде. Но Кавинант чувствовал, что подобных вещей явно недостаточно, чтобы вознаградить ту усталость, которая пронизывала его до мозга костей.
Однако Этьеран не оставила его стон без внимания. Взяв Кавинанта за руку, она сказала:
— Не спеши осуждать меня, — и потащила его вперед.
Под ветвями последнего дерева, росшего у края чаши, она сняла рюкзак и села, прислонившись к стволу, глядя вниз, на склон горы. Когда Кавинант присоединился к ней, она мягко сказала:
— Следите за своим сумасшедшим сердцем, Неверующий. Мы успели сюда вовремя. Это Банас Ниморам — затмение луны в весеннюю ночь. Во время моего поколения еще ни разу не было такой ночи, такой поры великолепия и красоты. Не надо подходить к Стране со своими стандартами и мерками. Подождите. Это Банас Ниморам, Празднование Весны — самый чудесный обряд из всех сокровищ земли. Если ты не потревожишь воздуха гневом, мы увидим танец духов Анделейна. — Когда она говорила, в ее голосе была такая глубокая гармония, как будто она пела; и Кавинант ощутил силу обещаемого ею, хотя и не понял этого. Сейчас было не время задавать вопросы, и Кавинант приготовился к ожиданию посещения.
Ждать оказалось нетрудно. Сначала Этьеран передала Кавинанту хлеб и остатки вина, и ужин несколько освежил его. Затем, по мере того, как сгущалась ночь, он обнаружил, что воздух, струившийся к ним из чаши, оказывает на него успокаивающее, расслабляющее влияние. Вдохнув всеми легкими, он почувствовал, что этот целебный воздух словно выдувает из него все страхи и тревоги, полностью заполняет все его существо и погружает в состояние спокойного ожидания. Он расслабился, отдаваясь омовению ласкового ветерка, и устроился поудобнее, опершись о ствол дерева. Плечо Этьеран касалось его, овевая теплом, словно она простила его. Ночь становилась все глубже, звезды ожидающе мигали, и ветерок продувал сердце Кавинанта, как бы просеивая сквозь него и унося прочь всю паутину и пыль; и ожидание не было утомительным.
Первый мигающий огонек появился, словно знак решимости, сфокусировавшей в себе всю ночь. На окружности чаши Кавинант увидел пламя, похожее на пламя свечи — крошечное на таком расстоянии, но все же ясно различимое, переливающееся желтым и оранжевым так отчетливо, словно он держал подсвечник в руках. Он почувствовал странную уверенность, что расстояние не имеет значения; если бы пламя находилось перед ним на траве, оно было бы по своей величине не больше его ладони.
Когда появились духи, из горла Этьеран вырвался вздох, а Кавинант сел прямее, чтобы лучше сконцентрировать внимание.
Прозрачно мерцая и вращаясь, пламя стало спускаться вниз, на дно чаши. Оно было как раз на полпути, когда на северном краю чаши появился второй огонек. Затем еще два духа возникли с южного края; и потом, слишком внезапно, чтобы их можно было сосчитать, целый сонм огоньков со всех сторон стал собираться в чашу. Некоторые миновали Кавинанта и Этьеран и с той, и с другой стороны на расстоянии не более десяти футов, но, казалось, не заметили наблюдателей; они приближались к чаше, медленно кружась, так, словно каждый из них был один в горах и не зависел ни от какого свечения, кроме собственного. Тем не менее, огоньки их сливались, образуя над чашей в своем сиянии золотой купол, сквозь который звезды едва были видны; и время от времени некоторые духи, казалось, кланялись и вращались друг вокруг друга, словно разделяя свою радость на пути к центру чаши.
Кавинант смотрел на движение тысяч огоньков, прыгающих с высоты его плеча в чашу, и едва отваживался дышать. От избытка изумления он чувствовал себя самовольным зрителем, ставшим причастным к какому-то оккультному обряду, таинству, не предназначенному для глаз человека. Он стиснул себе руками грудь, словно возможность досмотреть празднование до конца зависела от того, насколько тихо он будет дышать; словно он боялся, что любой звук может нарушить феерическое кружение, спугнуть духов.
Затем в скоплении огоньков произошла какая-то перемена. Высоко в небо поднялась высокая мерцающая песня без слов, мелодия, фонтанами бьющая вверх, к звездам. Из центра чаши, где тысячи духов вращались беспорядочно, каждый сам по себе, стала выстраиваться сверкающая кружащаяся цепочка танцоров. Каждый дух, казалось, наконец нашел свое место в огромной замкнутой цепочке, имеющей форму колеса и заполнившей половину чаши, и затем это колесо начало вращаться вокруг центра. Но в самом центре огоньков не было; колесо вращалось вокруг ступицы абсолютной тьмы, не отражавшей свечения духов.
Как только песнь заполнила собой ночь, огромный круг стал вращаться, каждый огонек при этом танцевал свой особый, таинственный, не зависящий от других танец, отличающийся движениями и раскачиваниями; но каждый огонек тем не менее сохранял свое место в общем строю. А в пространстве между внутренней ступицей и внешним ободом возникли другие кольца, так что все колесо состояло теперь из многих колец, каждое из которых вращалось. И ни один из духов не сохранял долго одного и того же положения. Огоньки бесконечным потоком струились сквозь движущийся рисунок, так что по мере вращения колеса отдельные духи перетанцовывали с места на место, то кружась вдоль внешнего обода, то вращаясь по спирали через средние кольца, то обвиваясь вокруг ступицы. Каждый дух двигался и менял место беспрестанно, однако общий рисунок ни на мгновение не менялся — ни малейшая брешь не нарушала совершенства формы колеса даже на короткий миг, и каждый огонек казался одновременно и абсолютно одиноким, таинственно следующим какому-то своему предназначению, исполняя танец, и неотрывной частью целого. Пока они танцевали, свет их становился все ярче, до тех пор, пока звезды не потускнели на небе, потерявшись в их сиянии, а ночь не отступила в стороны, подобно отдаленному зрителю празднования.
![Стивен Дональдсон - Презрение Лорда [ Проклятие Лорда, Проклятие лорда Фаула]](https://cdn.my-library.info/books/57629/57629.jpg)